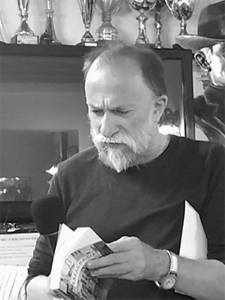
| КОНТЕКСТЫ | # 98 |
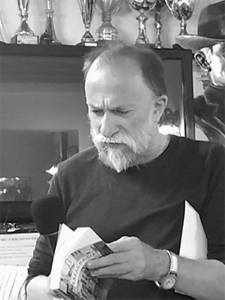
В последние годы у него участились головокружения. Он почти ничего не ел и совсем перестал писать. Ночи напролет кружил в одиночестве по безлюдному Парижу среди промозглых улиц и бесприютных ночных фонарей.
Однажды на набережной спросил у юной цветочницы, знакома ли она с творчеством некоего Шарля Бодлера. Та ответила, что знает только Альфреда Мюссе. Он пришел в ярость и едва не набросился на нее с проклятиями.
Затем спустился к Сене, где у самой воды бегали крысы, и вспомнил тучного развязного Бальзака, с которым когда-то часами бродил вдоль набережной, и они болтали обо всем, что приходило в голову.
При этом он постоянно думал о Жанне.
– Чертова мулатка! – пробормотал он.
Затем долго глядел на плывущие по небу облака… Дались ему эти облака… Как там, в «Страннике»? « – Я люблю облака... летучие облака... вон они... Чудесные облака!»
_________
9 апреля 1821 года в Париже на улице Отфёй в доме 13 родился Шарль Пьер Бодлер.
Отец, Жозеф-Франсуа Бодлер был намного старше матери, Каролины Аршембо-Дюфаи. Ей было двадцать шесть лет, когда в сентябре 1819 года шестидесятилетний Жозеф-Франсуа сочетался с ней вторым браком. Позже Бодлер назовет этот брак «несуразным, старческим и патологическим».
_________
10 февраля 1827 года отец Шарля умирает. Через несколько дней его хоронят на Монпарнасском кладбище. За матерью начинает ухаживать некий офицер Жак Опик, и Каролина, едва заканчивается траур, выходит за него замуж.
_________
Поначалу Шарль смиряется с замужеством матери. Однако постепенно его отношения с Опиком накаляются. В конце концов он настолько возненавидел отчима, что даже спустя много лет, во время февральской революции 1848 года, убеждал повстанцев «найти и расстрелять генерала Опика»!
_________
В 1830 году Опик по делам службы отбывает в Алжир. Он отсутствует почти полтора года, и Шарль ежедневно благодарит Бога за возможность оставаться наедине с матерью. Через много лет в одном из писем Каролине он вспоминает:
«Было время, когда ребенком я тебя страстно любил; не бойся, слушай и читай дальше. Мне вспоминается одна наша прогулка в фиакре. Ты тогда только что вышла из санатория и, в доказательство того, что ты не забывала о своем сыне, показала мне рисунки пером, сделанные для меня. А ты говоришь, что у меня отвратительная память. Потом – площадь Сент-Андре-дез-Ар и Нейи. Долгие прогулки, бесконечно нежные ласки. Я вспоминаю набережные, такие печальные в тот вечер. О, то было восхитительное время; я ощущал на себе материнскую нежность... Я все время был жив в тебе, а ты принадлежала мне одному. Ты была для меня и божеством, и товарищем».
_________
1 марта 1837 года Шарль поступает в лицей Людовика Великого. Ему запомнились сырые классы, запах плесени и гнили, бесконечная скука. Он запоем читает Виктора Гюго и Теофиля Готье, чьи стихотворения оказывают на него большое влияние.
_________
Окончив лицей, Шарль заводит дружбу с молодыми литераторами, в том числе с Нервалем. Ведет богемный образ жизни. Попадает в Латинский квартал, о котором до той поры не имел ни малейшего представления. Влезает в долги, водится с проститутками, в итоге заболевает сифилисом. В качестве лекарства начинает принимать наркотики. «У меня прекратилась ломота, почти прошла головная боль, сплю гораздо лучше…» – пишет он своему единокровному брату Клоду Альфонсу.
_________
В июне 1841 года из-за постоянных ссор с отчимом (дело доходит до рукоприкладства) Шарль на борту тихоходного судна «Пакетбот Южных морей» отправляется в путь к Мысу Доброй Надежды за Мадагаскар на Маврикий и дальше в Индию, до которой он так и не добрался. И не потому что у него закончились деньги, как он писал об этом матери, а потому что в Индии ему «делать было решительно нечего».
Он возвращается в Париж, в Латинский квартал, к молодым поэтам, журналистам и художникам, к милой богеме, воспетой Анри Мюрже[1], одним из его близких друзей. В Париж с его нездоровыми запахами, с его кофейнями и ресторанами, с его ветхими мансардами, расположенными выше крыш, с его сутолокой и гомоном, с нервной, болезненной, тревожной, расточительной и нелепой жизнью.
_________
И все же время не было потрачено даром. По словам Теофиля Готье, «…в его самых мрачных произведениях вдруг точно откроется окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш, глянет на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой берег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой жительницы Малабара, несущей на голове глиняный кувшин».
_________
В конце октября 1843 года Шарль переезжает в Отель-де-Пимодан, на набережную Анжу. Здесь на последнем этаже в течение нескольких лет он арендует небольшую квартиру с окнами во двор, где меж громоздких плит виднеется чахлая ржавая трава. За жилье платит мать. Вход в квартиру с черной лестницы. На стенах обои с черно-красными узорами. Сразу в нескольких местах, если верить воспоминаниям Асселино, из часов выскакивают кукушки. На подоконниках бутылки вина. Именно здесь он пишет «Приглашение к путешествию», в котором «…лучи золотят гиацинтовым блеском каналы».
На первом этаже живет красильщик. Из комнат доносится отвратительная вонь, вызывающая тошноту и кашель. Но с лестницы, в правом крыле, обитая бархатом дверь ведет в настоящий рай: роскошную гостиную, будуар, спальню…
Бодлер оставил описание этого рая: «Будуар мал и очень узок. Потолок, начиная от карнизов, закругляется в виде свода; стены увешаны длинными зеркалами, а между ними – панно с пейзажами, написанными в небрежно-декоративном стиле».
Шарлю достаточно спуститься в бельэтаж, чтобы попасть в Клуб гашишистов, где нередко бывал Дюма-отец и где был задуман и вскоре написан его великий роман «Граф Монте-Кристо». По словам Теофиля Готье, «быстротекущее время словно бы не коснулось этого дома, он походит на часы, которые забыли завести, поэтому стрелки всегда показывают одно и то же время». Далее Готье подробно описывает застолье гашишистов:
«Наша трапеза была сервирована причудливо и живописно. Вместо рюмок, бутылок и графинов стол был уставлен большими стаканами венецианского стекла с матовым спиралевидным узором, немецкими бокалами с гербами и надписями, фламандскими керамическими кружками, оплетенными тростником, и бутылями с хрупкими горлышками».
Когда однажды владелец дома Пишон упрекнул Бодлера в излишнем шуме, тот ответил ему: «Не знаю, что вы имеете в виду. В гостиной я колю дрова, в спальне таскаю за волосы любовницу, но это же происходит во всех квартирах!»
Много лет спустя барон Пишон, дипломат, чиновник и библиофил, в письме другу напишет: «Если б Вы только знали, каково было мне иметь в постояльцах Бодлера и что за жизнь он вел!»
_________
К середине 1844 года Шарль умудрился промотать почти половину отцовского наследства. Генерал Опик вместе с Каролиной и братом Шарля Клодом Альфонсом решают ходатайствовать перед властями об учреждении над ним официальной опеки. Для Шарля это было как удар дубиной по голове: он не верил, что мать решится на подобное предательство. В течение нескольких дней он не может прийти в себя, после чего пишет ей письмо:
«Чтобы я проглотил пилюлю, вы постоянно повторяете, что происшедшее – совершенно естественный шаг и не несет в себе ничего позорного. Это возможно, и я в это верю. Но, по правде говоря, какое мне дело, что это действительно так для большинства людей, если для меня это нечто совершенно иное <…> к моему несчастью, я действительно устроен не так, как все. То, что ты рассматриваешь как необходимость и временную боль, я не могу, не могу вынести <…> я решительно отвергаю всякое покушение на мою свободу. Разве не жестоко подвергать меня судилищу нескольких человек, которые меня не знают и для которых это – скучная обязанность? <…> Я искренне верю, что ты делаешь большую ошибку. Говорю я это тебе с холодом в душе, потому что вижу, что ты осуждаешь меня, и уверен, что слушать меня ты не будешь, но ты должна знать – ты сознательно и по собственной воле причиняешь мне огромное горе, не представляя всей его тяжести».
10 сентября 1844 года в Отель-де-Пимодан прибывает судебный исполнитель с предписанием господину Бодлеру явиться в судебную палату департамента Сены, а 21 сентября старинный друг семьи мэтр Нарсис Дезире Ансель назначается главой опекунского совета. Бодлер пишет матери разгневанное письмо, в котором обращается к ней на «вы»:
«…Кстати, о векселях – Вам ведь известно, что все деловые люди знают друг друга и что одного пущенного по кругу письма достаточно, чтобы все парижские поверенные в делах и нотариусы были осведомлены о моем положении; к тому же как по ним платить? Все это я напишу и г-ну Анселю, которому Вы наверняка уже дали полицейско-материнские инструкции, продиктованные любовью в высшей стадии ее проявления».
_________
Эта трагическая финансовая канитель будет разматываться на протяжении всей его жизни. За три года до смерти, уже будучи тяжело и безнадежно больным, Бодлер все еще продолжает переписку с нотариусом Анселем:
«Мой дорогой Ансель, возвратившись из Намюра, куда я ездил погостить у г-на Ропса, я обнаружил Ваше последнее письмо и отвечу, прежде всего, на постскриптум, который я нашел несколько странным, позвольте признаться Вам в этом. Как могли Вы подумать, что я способен дважды воспользоваться одним и тем же начислением – сначала самими деньгами, а затем письменным поручительством на ту же сумму. Подобное поведение определяется весьма сильным словом “бесчестье”. Ежели я Вам не отослал само поручительство, так это потому, что оно уже давным-давно уничтожено.
Вы желаете объяснения загадки, а именно, почему я манкировал нашей встречей. Я назначал встречи многим другим помимо Вас – Мишелю Леви, например. В последний момент, прямо перед отъездом, – невзирая на страстное желание увидеться с матерью, невзирая на глубокую тоску, в которой я живу, тоску еще более тяжкую, нежели та, что причиняла мне французская глупость и от которой я так страдал на протяжении многих лет, – меня охватил ужас – какой-то собачий страх, ужас при мысли снова оказаться лицом к лицу с моим адом – пройтись по Парижу, не имея возможности расплатиться по долгам, что обеспечивало бы мне истинный отдых в Онфлёре…»
_________
Ив Бонфуаверно (Ив Бонфуа), один из наиболее известных современных французских поэтов, в своем эссе «Цветы зла» так высказался о трагической судьбе Бодлера:
«Что сказать о нем, кроме пустяков, неточностей, а то и лжи? Самая проницательная критика отступается и признает абсолютность им созданного. <…> Бодлер избрал смерть – чтобы она росла в нем, как сила мысли, чтобы познавать через нее мир. Суровый, жертвенный выбор. К тому же опасный для самой поэзии. Мало того, что Бодлер не нашел признания, оказавшись ни на кого не похожим, и жил в вечном страхе немоты, без друзей, на которых мог бы положиться, – ему еще пришлось увидеть, как отказывает разум, ради которого он стольким рискнул. О том, что беда не прошла стороной, говорят мучительные трудности в работе и предсмертная афазия. А о том, что он все знал заранее, сказано в “Фейерверках”[2]: “…сегодня… мне было дано странное предупреждение: я почувствовал, как на меня повеял ветер, поднятый крылом безумия”».
_________
30 июня 1845 года в возрасте 24-х лет Бодлер предпринимает попытку самоубийства. Он отсылает нотариусу Анселю пространное письмо-завещание, в котором пишет:
«Я убиваю себя потому, что не могу больше жить, потому как тяжесть, с которой я засыпаю, и тяжесть, с которой я просыпаюсь, стали для меня невыносимыми. Я убиваю себя потому, что я – бесполезен для других и опасен для себя самого. – Я убиваю себя потому, что считаю себя бессмертным, и потому, что я надеюсь. <…> Я завещаю и отдаю госпоже Лёмер (Жанне Дюваль – Б.М.) все, что имею, в том числе мебель и мой портрет, ибо она – единственный человек, от общения с которым душа моя отдыхала». И т.д.
В тот же вечер в кабаре на улице Ришелье, в присутствии Жанны Дюваль, Бодлер пытается заколоть себя ножом, в результате чего падает в обморок. Рана неглубокая, почти царапина. Его переносят в дом к Жанне, которая живет неподалеку, на улице Фамм-сен-Тет. Подоспевший врач, осмотрев больного, рекомендует Бодлеру полный покой.
_________
После неудавшегося самоубийства Бодлер переезжает с набережной Анжу на Вандомскую площадь, к матери, однако, через некоторое время съезжает и от нее. На вопросы друзей: «Почему он ушел из семьи?» отвечает: «У них в доме пьют только бордо, а я не могу обойтись без бургундского…»
_________
Ему нравилось ночевать у друзей, поскольку он ненавидел собственное жилище, чаще всего тесное и неудобное. Однажды он несколько недель кряду провел в заброшенной мастерской некоего художника, где спал, не раздеваясь, на старом обтрепанном диване. Бывало, и не раз, что он ночевал в борделях и испытывал на себе тошнотворное впечатление, производимое пробивающимся в комнату дневным светом, падающим на полинявшие занавески.
_________
Больше всего он боялся скуки. Совершенно не переносил одиночества. Рассказывал, что состоит в любовных связях с мужчинами, с серьезным выражением лица утверждал, что он тайный агент... В своих рассказах был настолько убедителен, что ему охотно верили.
_________
3 января 1865 года Бодлер пишет из Брюсселя письмо г-же Поль Мёрис:
«Я прослыл здесь за агента полиции (очаровательно!) (из-за этой расчудесной статьи, что я написал о шекспировском празднестве), за педераста (я сам распространил этот слух; и мне поверили!), потом прослыл за корректора, присланного из Парижа, чтобы править гранки непристойных сочинений. Придя в отчаяние оттого, что мне во всем верят, я пустил слух, будто убил своего отца и потом съел его; что если мне и позволили бежать из Франции, так это в благодарность за услуги, которые я оказывал французской полиции, и мне поверили! Я плаваю в бесчестье, как рыба в воде».
_________
Как проницательно заметил Сартр, «…он не брезгует ничем, чтобы в собственных глазах превратить свою жизнь в судьбу».
_________
Бодлеру не раз вменяли в вину чрезмерное обилие в его поэзии аллитераций и ассонансов. Элиот вообще считал, что «разнообразие и изобретательность» Бодлера «порой приближаются к трюкачеству». Жюль Ренар, поместивший на первой странице своего «Дневника» восторженную запись: «Тяжелая, будто заряженная электричеством фраза Бодлера», позже все в том же «Дневнике» камня на камне не оставил от одной из его метафор:
«“...Душа вина заводит песнь в бутылке”. Вот она, лжепоэзия, которая старается подменить то, что существует, тем, что не существует. Для художника вино в бутылке – это нечто более подлинное и более интересное, чем душа вина и душа бутылки, ибо нет никакого резона наделять душой предметы, которые прекрасно обходятся без всякой души».
_________
Справедливости ради нужно отметить, что Верлен в своей знаменитой статье «Шарль Бодлер», заявил буквально следующее: «…ни один из великих поэтов, ни один из них больше, чем Бодлер, не разбирается в бесконечных хитросплетениях стихосложения». При этом Верлен дважды процитировал именно эту строку: «...Душа вина заводит песнь в бутылке».
_________
По мнению Г. Адамовича, «…Бодлер слишком красив и наряден, слишком эффектен и красноречив. Часто кажется, что если бы Бодлера кое-где подсушить, кое-где ретушировать, он решительно был бы “поэт в поэтах первый” за последние сто лет».
_________
Друг и соратник Бодлера, Теофиль Готье, напротив, считал, что «…Бодлер, если ему не надо выразить какого-нибудь удивительного отклонения, какой-нибудь неизвестной стороны души или вещи, выражается языком чистым, ясным, правильным и настолько точным, что самые строгие судьи ни в чем его не упрекают. Это особенно заметно в его прозе, когда он говорит о предметах более обычных и менее отвлеченных, чем в своих стихах, почти всегда полных крайней концентрации».
_________
Кстати, тот же Адамович в статье, посвященной И.Анненскому, начинающейся пассажем: «Пятнадцать лет тому назад, хмурым, пронзительно-холодным осенним утром в Царском Селе хоронили Иннокентия Анненского…», находит удивительно точные слова:
«Наследство Бодлера он (И. Анненский – Б. М.) принял с покорностью, почти благоговением. И над всей его поэзией можно было бы поставить эпиграфом строчку из “Сплина” о человеке, у которого в жилах течет “зеленая вода Леты”».
_________
Предчувствуя близкую смерть, он все же пытается работать. Безрезультатно. Слишком большие крылья дала ему природа. Слишком большие! Как тому альбатросу, которого капитан Сализ подстрелил у экватора. Матросы втащили раненую птицу на борт и привязали ее за ногу, а она тщетно пыталась уйти от своих мучителей, с трудом волоча за собой два огромных тяжелых крыла.
_________
…Третью ночь подряд ему снится Каролина. Она говорит, что 300 франков – большие деньги и что в понедельник она должна уехать… Дальнейших слов он не слышит. Сон обрывается всегда на одном и том же месте: едва он подходит к матери, на ее месте возникает Жанна Дюваль…
_________
Впервые Бодлер встретил Жанну Дюваль в театре Порт-Сент-Антуан вскоре после возвращения из морского путешествия. Кареглазая гаитянка с роскошными чуть вьющимися волосами привлекла его внимание кошачьей грацией, толстыми чувственными губами, небольшой острой грудью и широкими бедрами. Он влюбился в нее с первого взгляда. Посвятил ей множество стихов:
_________
Жанна, несмотря на то, что Бодлер исполняет любые ее прихоти, ведет себя вызывающе: совершенно открыто, никого не стесняясь, изменяет ему с каждым, кто попадается на ее пути, и даже принимает случайных клиентов на улице Фамм-сен-Тет.
_________
Тем не менее, в письме к матери от 26 марта 1853 года Бодлер делает неожиданное признание:
«Она меня заставляла страдать... Но перед подобным разрушением и такой глубокой печалью я чувствую, как мои глаза наполняются слезами и – чтобы быть до конца откровенным – сердце угрызениями. Дважды я закладывал ее драгоценности и мебель, заставлял влезать для меня в долги, подписывать векселя, избил ее и, наконец, вместо того чтобы показать ей, как должен вести себя такой человек, как я, всегда подавал пример распутства и беспорядочной жизни. Она страдает – и она молчит. – Разве нет причины для угрызений? Разве не я виноват в этом, как и во всем остальном?»
Однажды, вернувшись ранее обычного, Шарль застал ее с парикмахером. И не сделал ровным счетом ничего! Она была слишком дорога ему, он не мог с ней расстаться. Впрочем, Бодлеру было не привыкать к унижениям. Вечные долги, постоянная зависимость от Нарсиса Дезире Анселя, «нотариуса из предместья», с ужимками и причмокиваниями выдававшего ему гроши из отцовского наследства, показное добродушие генерала Опика. Похоже, унижения вдохновляли его.
Недаром Жюль Лафорг назвал «Цветы зла» «чувственной ипохондрией, переходящей в мученичество».
Именно Жюль Лафорг в отрывочных заметках, посвященных «Цветам зла», попытался зафиксировать тот самый «новый трепет», о котором в известном письме Бодлеру говорил Гюго. По словам Лафорга, Бодлер был первым, кто сказал: «Поэзия – удел посвященных. Публикой я проклят – и прекрасно – сюда ей хода нет».
Лафорг прожил всего 27 лет, оказав огромное влияние на многих поэтов, в том числе на Элиота. В 1885 году у него выходит первая книга стихов «Жалобы», вскоре после нее – «Подражание богоматери луне». Некоторые из его стихотворений обладают загадочной, завораживающей красотой:
_________
13 июля 1857 года Флобер пишет Бодлеру: «Сперва я проглотил вашу книгу от начала до конца, точно кухарка фельетон, а теперь, с неделю как перечитываю стих за стихом, слово за словом, и скажу откровенно, мне она нравится и восхищает меня <…> Вы тверды, как мрамор, и пронизываете, как туман в Англии».
Флоберу, по-видимому, полюбилось слово «туман». 27 июля 1852 года в письме Луизе Коле он пишет: «В сущности, я – человек туманов».
В 1866 году в письме г-же Роже де Женетт он все еще говорит о туманах: «Сейчас я в полном одиночестве. Туман еще более усугубляет тишину, вас словно покрывает большой белесый могильный холм».
_________
Остается повторить вслед за Сартром: «За мной и поныне водится этот грешок – панибратство. Со знаменитыми покойниками я на “ты”, о Бодлере, Флобере высказываюсь без обиняков, и, когда мне это ставят в вину, меня так и подмывает ответить: “Не суйте нос не в свое дело”…»
_________
Из письма Виктора Гюго Бодлеру: «Что Вы делаете, когда пишете такие поразительные стихи, как “Семь стариков” и “Старушки”, которые Вы посвятили мне, за что я Вас благодарю? Что Вы делаете? Вы шагаете. Вы двигаетесь вперед. Вы зажигаете на небосводе Искусства какой-то новый, мрачный луч. Вы вызываете новый трепет…»
Душераздирающий вопль перед лицом старости и неизбежной смерти. От этих стихов на губах навсегда остается привкус пепла.
_________
Нечто подобное можно найти у Чорана:
«Как же она мне близка, та безумная старуха, которая бежала за временем, которая пыталась поймать клочок времени».
_________
Интересны воспоминания Асселино, одного из самых верных друзей Бодлера:
«Бодлер забавлялся в это время сочинением безумных стихов. В них видна его любовь к маскам и к перевоплощению, заставлявшая сочинять стихи религиозные, военные и проч. Одно из них он мне прочел в тот вечер. В нем выражалась горечь любовника, чью любовницу на его глазах насилует целая армия. Участие принимали драгуны, артиллеристы, тамбурмажоры и даже инвалиды».
_________
Т.С. Элиот: «Его проституток, мулатов, иудеек, змей, котов, трупов – вкупе нелегко вынести».
_________
Эмиль Чоран: «Если Ницше, Прусту, Бодлеру или Рембо удалось пережить все колебания моды, то обязаны они этим своей бескорыстной жестокости, своей дьявольской хирургии, обилию своей желчи».
_________
За год до смерти Бодлер пишет из Брюсселя письмо Жюлю Труба:
«…Я получил от г-на Лемера два из трех номеров “Л’Ар”, где напечатана касающаяся меня статья[3]… Этим молодым людям, бесспорно, не занимать таланта, но сколько безумств! сколько неточностей! сколько преувеличений! какая нехватка точности! Говоря по правде, они внушают мне отчаянный страх! Больше всего я люблю быть один».
_________
Он испытывает отвращение к каждодневному труду. «Мне было невероятно трудно усадить себя за работу», – пишет Бодлер матери в августе 1851 года. Работе он предпочитает беседы с приятелями, посещения публичных домов или бесконечные походы в театр.
_________
В своей книге о Бодлере Анри Труайя приводит забавные подробности его жизни:
«Иногда по вечерам он ходил также в казино “Каде”, известное малопристойными танцами, канканом и назойливыми проститутками. Чаще всего его спутниками были Шанфлёри и Константен Гис. Он бродил там с мрачным видом, среди разгоряченных девиц и игривых участников ужина. Играла оглушительная музыка, юбки взлетали выше колен, у всех был жизнерадостный вид, все спешили насладиться жизнью, – все, кроме этого никогда не улыбавшегося гостя в черном, с глазами убийцы. Случайно встретив его в толпе веселящихся, Шарль Монселе спросил: “Что вы тут делаете, Бодлер?” Тот невозмутимо ответил: “Дорогой друг, я рассматриваю окружающие меня черепа”».
_________
13 марта 1856 года в письме Шарлю Асселино Бодлер рассказывает о необычном сне, приснившемся ему накануне:
«…Было 2 или 3 часа ночи (во сне), и я прогуливался в одиночестве по улицам. Я встречаю Кастиля, которому, как мне думается, нужно сделать множество дел, и говорю ему, что составлю ему компанию и что воспользуюсь коляской, чтобы съездить по одному личному делу. Итак, мы берем коляску. Я считал своим долгом подарить хозяйке одного публичного дома собственную книгу, которая только что вышла. Взглянув на книгу, которую я держал в руке, я обнаружил, что она – непристойная, это мне объяснило необходимость подарить сей труд этой даме. Кроме того, в моем мозгу эта необходимость, в общем-то, была предлогом отыметь мимоходом одну из девиц заведения, так что получается, что без необходимости подарить книгу я не осмелился бы зайти в подобный дом. Я ничего не сказал об этом Кастилю, приказал остановить коляску у дверей этого дома, оставил Кастиля в коляске, пообещав, что не заставлю его долго ждать. Сразу же, как только я позвонил и вошел, я заметил, что елда вываливается у меня из расстегнутых брюк, и я решаю, что в таком виде неприлично заходить даже в подобное место. Ко всему прочему, почувствовав, что у меня насквозь мокрые ноги, я обнаружил, что стою босиком в луже у самой лестницы. Ба! – говорю я себе, – я их вымою, перед тем как лягу с ней и до того как уйти отсюда. Поднимаюсь. Начиная с этого момента о книге нет и речи.
Я оказываюсь в просторных галереях, сообщающихся между собой, плохо освещенных, имеющих печальный и поблекший вид, – будто старые кафе, прежние кабинеты для чтения или мерзкие игорные заведения. Девицы, рассеянные по просторным галереям, беседуют с мужчинами, среди которых я вижу лицеистов. – Мне очень грустно и очень неловко; я боюсь, как бы все они не увидели мои ноги. Смотрю на них и замечаю, что на одной из них надета туфля. – Через некоторое время обнаруживаю, что обуты обе.
Меня поражает, что стены этих просторных галерей украшены всевозможными рисунками – в рамах. Не все из них неприличные. Есть даже архитектурные чертежи и египетские статуэтки. Поскольку я чувствую себя все более и более смущенным и не осмеливаюсь подойти к какой-нибудь девице, развлекаюсь тем, что старательно разглядываю рисунки.
В отдаленной части одной из этих галерей я обнаруживаю очень странную экспозицию. Среди целой кучи маленьких рамок я вижу рисунки, миниатюры, фотографии. На них изображены разноцветные птицы с очень ярким оперением, глаза этих птиц – живые. Иногда нарисована только половина птицы. Иногда попадаются изображения существ странных, чудовищных, почти аморфных, будто небесных тел, аэролитов. В углу каждого рисунка стоит подпись. Девица такая-то в возрасте... произвела на свет это существо в таком-то году; и другие надписи в том же роде.
Меня посещает мысль, что подобные рисунки не очень-то пригодны, чтобы дать представление о любви.
Другая мысль: в целом мире существует на самом деле только одна газета, “Сьекль”, чья глупость дошла до того, что они открыли публичный дом и к тому же разместили в нем нечто вроде медицинского музея. Вдруг я говорю себе: да, это же газета “Сьекль” наживалась на этих бордельных спекуляциях, а медицинский музей объясняется тем, что они там помешались на прогрессе, науке, распространении просвещения. Тогда я подумал, что современные дурость и глупость приносят таинственную пользу и что часто созданное ради зла по законам странной спиритуалистической механики оборачивается во благо.
В глубине души я восхитился верности своего философского склада ума.
Но среди всех этих существ было одно действительно живое. Это чудовище появилось на свет в борделе и теперь вечно стоит на пьедестале. Хотя оно и живое, оно является частью музея. Оно не безобразно. У него даже хорошенькое лицо, очень смуглое, восточного типа. В нем много розового и зеленого. Существо стоит на корточках, но в очень странном и вывернутом положении. Кроме того, что-то черноватое обвивает тело и конечности, словно огромная змея. Я спрашиваю у него, что это, и оно мне отвечает, что это чудовищный аппендикс, который выходит из головы, он эластичный, будто каучуковый, и такой длинный, такой длинный, что, если бы он закрутил его только вокруг головы, как лошадиный хвост, было бы слишком тяжело и совершенно невозможно его носить, – поэтому ему приходится обвивать его вокруг себя, что, впрочем, производит очень красивый эффект. Я долго беседую с чудищем. Оно делится со мной своими печалями и тревогами. Вот уже много лет ему приходится стоять на пьедестале, оставаться в этом зале на потеху публике. Но его главная проблема – время ужина. Поскольку оно живое, ему приходится ужинать вместе с девицами из заведения – шагать, покачиваясь, вместе со своим каучуковым аппендиксом до столовой, где ему приходится следить, чтобы тот был обернут вокруг него или лежал на стуле, словно моток веревки, ибо, если оно позволит аппендиксу волочиться по земле, тот может вывернуть назад его голову. Кроме того, ему, маленькому и плотному, приходится ужинать рядом с крупной, хорошо сложенной девицей. Впрочем, все эти объяснения оно давало без всякой горечи. Я не осмеливаюсь прикоснуться к нему, но оно меня волнует».
Роберто Калассо в книге «Сон Бодлера» так комментирует этот сон:
«Этот сон надо рассматривать, прежде всего, как рассказ – и рассказ ошеломляющий. Возможно, самый смелый за весь девятнадцатый век. В сравнении с ним «Фантастические рассказы» Эдгара По звучат как робкие и устаревшие, повествование в них подчинено определенным канонам, а также требованиям возвышенности стиля. Сон Бодлера, напротив, лаконичен и сух, речь нервно спотыкается, встает на дыбы».
В связи с этим сном нельзя не вспомнить Лотреамона, создателя чудовищных «Песен Мальдорора», безусловно читавшего, а возможно и знавшего наизусть книги По и Бодлера. В частности, такой, например, пассаж:
«Мой член всегда чудовищно раздут, и даже когда пребывает в невозбужденном состоянии, никто из приближавшихся к нему (а мало ли их было!) не мог выдержать его вида, даже тот грубый чистильщик сапог, который в припадке безумия всадил в него нож».
Дадаист и сюрреалист Рене Кревель, ознакомившись с безумными и кощунственными «Песнями» Лотреамона, писал:
«Фразы скользили, как клинки, в моем мозгу. И кровь лилась из моих висков, как колокольный звон».
Через восемь лет после того, как он рассказал о своем сне Асселино, Бодлер в письме Теофилю Торе делает важное признание:
«Знаете ли, отчего я с таким терпением переводил По? Оттого что он на меня походил. В первый же раз, открыв одну из его книг, я с ужасом и восторгом обнаружил не только сюжеты, о которых сам помышлял, но и фразы, продуманные мною, а написанные им двадцатью годами ранее».
В книге «Мое обнаженное сердце» Бодлер, рассуждая о трагической судьбе Эдгара По, находит замечательные слова, которые с полным правом можно отнести к нему самому:
«Какая горестная трагедия – жизнь Эдгара По! Его смерть, его ужасная нужда, ужас которой лишь усугубляется ее пошлостью! Из всех свидетельств, которые мне довелось прочесть, я вынес убеждение, что Соединенные Штаты были для По лишь пространной тюрьмой, по которой он метался с лихорадочным возбуждением существа, созданного, чтобы дышать в более благоуханном мире, нежели это освещенное газом варварство, и его внутренняя, духовная жизнь поэта, пусть даже пьяницы, была лишь беспрестанным усилием, чтобы избежать влияния губительной среды».
_________
По словам Ива Бонфуа, Бодлер изменил поэтическую оптику. Он отыскивает прекрасное в безобразном, а в прекрасном ищет следы омерзительного.
Об этом же писала Лидия Гинзбург: «Красивая вещь встречается со страшной вещью – вот поэтический мир Бодлера».
А вот высказывание самого Бодлера: «Удивительная прерогатива: ужас, выраженный посредством искусства, превращается в красоту, и разъединенная, ритмизованная боль духа наполняется спокойной радостью».
_________
С начала января 1855 года он не находит себе места, мечется из угла в угол, беспрестанно меняет гостиницы, переезжая из одного района Парижа в другой в поисках недорогого, уютного жилища. Как всегда, Бодлер рассказывает об этом Каролине в длиннющих письмах, где каждая буква кричит о том, как он несчастен и как ему опять (в который раз!) нужны деньги.
«За месяц мне пришлось шесть раз переезжать, жить в непросохших после ремонта комнатах, спать в кроватях, полных блох, письма ко мне (самые важные) теряются, потому что я переезжал из отеля в отель, и поэтому я решил жить и работать в типографии, поскольку дома не было условий <…> Работа для «Пэи» кончается через три дня, и нужно будет начинать что-то другое, а при этом у меня нет жилья, потому что нельзя же назвать жильем мою дыру, где совершенно нет мебели, где мои книги валяются на полу <…> И самое смешное, что именно в таких невыносимых условиях, которые меня изнашивают, я должен писать стихи, а это же ведь для меня самое что ни на есть утомительное занятие».
При малейшей потребности в деньгах он вынужден обращаться к Анселю. Тот, как заклинание, повторяет одну и ту же фразу: «Необходимо разрешение матери». Однажды, чтобы купить обычный умывальник, ему пришлось тащиться из пригорода Парижа Нёйи, где жил нотариус, на Вандомскую площадь, расположенную в центре города. У дома он остановил экипаж и отправил Каролине записку:
«Только в случае крайней необходимости, например, когда я очень голоден, я обращаюсь к Вам, настолько мне все это отвратительно, настолько надоело. В довершение всего г-н Ансель требует Вашего разрешения. Вот почему, несмотря на дурную погоду и усталость, я приехал ходатайствовать о том, чтобы Вы позволили мне получить в Нёйи деньги, чтобы купить <…> умывальник и иметь возможность питаться в течение нескольких дней».
_________
В октябре 1857 года братья Гонкур описали в своем «Дневнике» посещение кафе «Риш», в котором бывали многие писатели, в том числе Бодлер:
«Рядом ужинает Бодлер. Без галстука, с расстегнутым воротом и со своей бритой головой он похож на человека, идущего на гильотину. Единственный признак изысканности – лайковые перчатки, маленькие, до белизны вымытые руки, ухоженные ногти. Голова безумца, голос резкий, как лезвие ножа. Менторская манера говорить; метит в сходство с Сен-Жюстом, и это ему удается…»
_________
Все, кто знал Бодлера в молодости, в один голос утверждали, что он был очень красив. Теофиль Готье, Теодор де Банвиль и многие другие. Жюль Валлес, познакомившийся с ним гораздо позже, придерживался иного мнения. Он так описал Бодлера: «У него была голова актера; выбритые щеки, розовые и надутые, лоснящийся нос с приплюснутым кончиком, губы кривились в нервной жеманной ухмылке, выражение лица было напряженным… в нем было понемногу от попа, старухи и от лицедея. Но больше – от лицедея».
Впрочем, в те благословенные времена писатели любили поливать друг друга грязью. О самом Валлесе в «Дневнике» братьев Гонкур можно прочесть следующее: «Валлес нянчится со своей озлобленностью, лелеет и холит ее, разжигает ее, никогда не расстается с ней, поддерживает ее кипение, понимая, что без нее он уподобится тенору, утратившему свое нижнее до». И еще: «Кстати, о ночевке Валлеса у Золя: он отказался надеть ночную сорочку и спал голым. В этой комической подробности он сказался целиком: таков он и в литературе, – любитель оголяться».
_________
Тем временем Жанна стала изменять ему с еще большим рвением. Для полного комплекта ей оставалось переспать разве что с конной статуей короля Генриха IV.
Бодлер, в свою очередь, страстно влюбляется в Аполлонию Сабатье, хозяйку салона, в котором частыми гостями были Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Жюль Барбе д’Оревильи и многие другие. С легкой руки Готье ее окрестили «Президентшей». В шестнадцать лет она поступила на содержание к состоятельному бельгийскому банкиру Альфреду Моссельману. Он поселил ее в доме номер 4 по улице Фрошо, неподалеку от площади Барьер-Монмартр. Аполлония была хороша собой, при этом она всегда твердо знала, что ей нужно и чего она хочет.
«Довольно высокая, пропорционально сложенная женщина с тонкими лодыжками и очень изящными руками», – так писала о ней Джудит, дочь Теофиля Готье.
Роберто Калассо в книге «Сон Бодлера» охарактеризовал Аполлонию следующими словами: «Мадам Сабатье стала содержанкой, как иные становятся хирургами, ботаниками или саперами».
_________
В декабре 1852 года Бодлер написал мадам Сабатье письмо, снабдив его посвященным ей любовным стихотворением под названием «Слишком веселой». Почерк был изменен.
Стихотворение заканчивалось строфой:
Позднее эти четыре строчки привели в ужас судей и побудили их включить стихотворение в список «осужденных». В примечании ко второму изданию «Цветов зла» Бодлер сделал уточнение: «Очевидно, что слово “яд” в значении “сплин или меланхолия” было для судей слишком простой идеей. Пусть же эта сифилитическая трактовка остается на их совести».
_________
3 мая 1853 года он посылает ей второе стихотворение, написанное, по всей видимости, в версальском борделе. Позднее оно было опубликовано в «Цветах зла» под названием «Духовный рассвет».
_________
По прошествии нескольких лет Аполлония все-таки отдалась ему в крошечном отеле на улице Жан-Жака Руссо. Встреча произошла в обстановке величайшей секретности. В течение нескольких минут Бодлер с недоумением рассматривал ее увядшие прелести: располневший бюст и оплывшие бедра, затем, несмотря на внезапно появившуюся слабость в ногах, выполнил то, что от него требовалось, правда, без особого энтузиазма! Тем не менее, Аполлония осталась довольна.
_________
На следующий день она написала ему письмо: «Мне кажется, что я твоя с первого же дня, как тебя увидела. Делай что хочешь, но я твоя и душой, и сердцем, и телом». Прочитав эти слова, Бодлер с ужасом подумал о том, что Аполлония после случившегося, возможно, захочет оставить богача Моссельмана и переехать к нему, в то время как сам он мечтал совсем о другом.
_________
Всепоглощающая любовь к мадам Сабатье не мешала Бодлеру встречаться с другими женщинами, имена и адреса которых он записывал в специальный блокнот с особой тщательностью. Одной из них была актриса Мари Добрен. Когда-то у них был роман, но он продлился недолго, и расстались они не очень хорошо. Теперь, через семь лет, Бодлер встретился с ней в театре «Гэте», и между ними снова вспыхнула страсть. Он посвятил ей свою «Осеннюю песню»:
_________
Когда его связь с Аполлонией Сабатье наконец-то прервалась, а Мари Добрен вернулась к своему прежнему любовнику, Теодору де Банвилю, он, недолго раздумывая, возобновил отношения с Жанной Дюваль. Какое-то время они живут в доме на улице Ангулем-дю-Тампль, затем переезжают в гостиницу «Вольтер».
Проходит совсем немного времени, и все становится на свои места: после очередного, уже привычного для них обоих, скандала Бодлер расстается с Жанной, на этот раз, по-видимому, навсегда. В сентябре 1856 года в письме к матери он пишет:
«Я сейчас одинок, совсем одинок, и, скорее всего, навеки. Ибо я больше не могу, просто хотя бы с точки зрения морали, доверять не только людям, но и себе самому, поскольку отныне мне остается заниматься лишь денежными делами и вопросами, связанными с удовлетворением тщеславия, и получать радость только от литературы».
В этот тяжелый период своей жизни он опять задумывается о смерти. Перед глазами нет-нет, да и возникнет образ Нерваля, год назад повесившегося на улице Вьей-Лантерн. Этот случай не выходит у него из головы. Ну что ж, пора выбирать: либо покончить с собой, как об этом мечтал Флобер («Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, – только гордость мешает…») либо, как позже написал Блэз Сандрар, «…сочинить молитву в духе Бодлера».
Он выбирает второе.
_________
Бодлер предполагал напечатать «Лимбы» у Мишеля Леви, выпустившего в свет «Салон 1846 года» и еще несколько книг, имевших успех, в том числе «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже. Именно Мишелю Леви Нерваль доверил свои последние произведения перед тем, как покончить с собой.
_________
Практически всю свою жизнь Мюрже провел в нищете. В 1844 году в письме старому школьному товарищу он писал:
«За три месяца не было ни одного дня, когда бы я не страдал от голода… Я не мог ни проверить, есть ли письма, ни встретиться с кем-либо в городе, одежда моя была в таком состоянии, что я не решался выйти на улицу средь бела дня».
Вот как он описывал своих персонажей, представителей тогдашней богемы: композиторов, художников и философов, живущих наотмашь, без оглядки, знающих не понаслышке, что такое нищета, в своей остроумной и трогательной повести «Сцены из жизни богемы»:
«Для облегчения и упорядочения сбора подати, которую он в силу необходимости взимал с состоятельных людей, Шонар составил таблицу, где в алфавитном порядке значились все его друзья и знакомые, проживающие в том или ином районе города. Против каждого имени значилась сумма, какую можно занять у этого человека в зависимости от его состояния, дни, когда он должен быть при деньгах, а также часы обеда и ужина, и меню, обычное для данного дома. Кроме того, Шонар вел книгу, куда тщательно заносились все занятые им суммы, вплоть до самых ничтожных, ибо он не хотел, чтобы общая сумма его долгов превысила наследство, которое он надеялся со временем получить от дяди-нормандца».
_________
Братья Гонкур посвятили Мюрже несколько горьких строк:
«…Мюрже при смерти; он умирает от ужасающей болезни, при которой человек гниет заживо, от старческой гангрены, еще усугубленной карбункулами, – тело распадается на отдельные куски. На днях кто-то стал подстригать ему усы – и усы остались в руке вместе с губой. Рикор говорит, что, если ампутировать ему обе ноги, это продлит ему жизнь, но на неделю, не больше».
_________
«Цветы Зла» поступили в продажу 25 июня 1857 года. Сразу после выхода сборника в начале июля некто Гюстав Бурден опубликовал в Le Figaro рецензию, в которой заявил, что стихи Бодлера заставили его усомниться в психическом здоровье автора. «Гнусность соседствует здесь с низостью, а мерзость источает смрад… Я никогда не слышал, – писал он, – чтобы так много грудей кусали – скорее, жевали! – на протяжении всего нескольких страниц; никогда не видел такой череды бесов, зародышей, демонов, кошек и прочей дряни».
_________
Поначалу Бодлер не придает большого значения рецензии Бурдена. Однако уже на следующий день после публикации статьи следователь парижского Трибунала заводит личное дело на него и издателей его книги, а еще через день министр внутренних дел подписывает ордер на арест книги.
_________
20 августа 1857 года в здании Дворца правосудия на острове Сите состоялся суд, рассмотревший иск Главного управления общественной безопасности к поэту Шарлю Бодлеру и издателям Огюсту Пуле-Маласси и Эжену де Бруазу, выпустившим тиражом в тысячу экземпляров стихотворный сборник «Цветы зла». Бодлера обвиняют в скабрезности, сотрясении устоев общественной морали и приговаривают к штрафу в 300 франков.
_________
И все же ни уничтожающая критика, ни многочисленные оскорбительные статьи, ни судебный процесс не нанесли ему значительного вреда, скорее, наоборот – послужили укреплению его известности…
_________
…В последние годы жизни здоровье Бодлера начало стремительно ухудшаться. Его преследовали удушье, головокружение, головные боли. Он уже не мог обходиться без наркотиков. После двух лет пребывания в Бельгии умирающего поэта перевезли в Париж.
_________
Акутагава Рюноскэ за месяц до того, как принять смертельную дозу снотворного, завершил работу над автобиографической повестью «Жизнь идиота», в которой, в частности, написал следующее: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера...»
_________
Шарль Бодлер умер в 1867 году в последний день лета.
[1] (вернуться) А. Мюрже, «Сцены из жизни богемы».
[2] (вернуться) «Фейерверки» – одна из частей бодлеровских записных книжек.
[3] (вернуться) Речь идет о статье Верлена о «Цветах Зла»; ее невероятный успех способствовал тому, что Бодлера стали называть главой нового поэтического направления, «школы Бодлера».
|
|
|